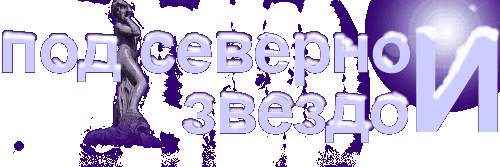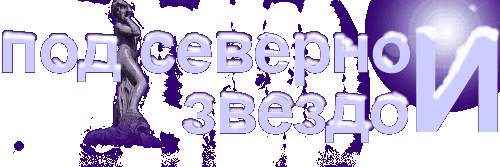Приятен он был и в общении, мил, любезен, любитель женщин, лошадей и кошек. С очаровательным юмором рассказывал о своих любовных похождениях, не забывая при этом показать, что вы поразили его и произвели на него впечатление. А то, что он забывал кое-что, путал имена людей и даты, и одни и те же истории приходилось выслушивать при каждом посещении сызнова, при его обаянии было сущей мелочью. Короче говоря, он был приятен во всех отношениях.
Каково же было мое изумление, когда я узнала, что этот милый старичок, любитель прекрасного пола – ярый антисемит. Каждый раз он приносил какие-то странные книги или списки, просил читать и передать дальше. Но читать это было просто невозможно. Не знаю, кто это сочинял, но злоба и ярость этих сочинений доходила до патологии. Трудно представить, что это писал нормальный человек. После его ухода я все бросала в мусорную корзину. Эти яростные писания приводили в смущение даже Марию Францевну.
Самое удивительное, что люди, которые считали себя стопроцентными интеллигентами, последней надеждой русской культуры, ее единственными носителями и постоянно напоминали нам об этом, в разговорах о евреях употребляли слово, которое в наших кругах произносить не принято.
Вероника Шеншина Ефиму Курганову, который одно время довольно часто ходил в нашу библиотеку, сказала, что было бы лучше, если бы он посещал библиотеку при синагоге. Впрочем, от Вероники каждому посетителю досталось по серьге. Одному из них, который пришел вместе с дамой, и принял живое участие в общем разговоре, она сказала: "А вы пришли с любовницей и помалкивайте". Этот человек, финский швед, дипломированный инженер (как здесь говорят), лицензиат, отнюдь не мальчик, до того растерялся, что стал вытаскивать с полок какие-то книги, показывать ей и говорить, что он дарил их библиотеке, так что у него тоже есть право участвовать в разговоре.
Миша Чарный раньше приходил в нашу библиотеку почти каждую субботу. Он интересовался книгами по истории, был очень начитан и любил повторять, что больше доверяет тем авторам, которые сами присутствовали при описываемых исторических событиях. На это я возразила ему, что, у меня и у Марии Францевны, например, совершенно две разных ”истории” и мы по-разному смотрим на те события, свидетелями которых являемся сами. Так, скажем, когда была гражданская война в Боснии, сербы организовывали концентрационные лагеря для мусульман, насиловали мусульманских женщин и убивали детей. В ответ на это Мария Францевна говорила, что сербы имеют такую трудную историю и так настрадались на протяжении веков, что они правы в своих поступках. Я спросила, при чем же здесь женщины и дети, в чем их вина? "А зачем они мусульмане?" Тогда я сказала, что я была в Сараево задолго до всех этих событий. Боснийские мусульмане – славяне, и выглядят как славяне, и говорят на таком языке, что мы понимаем друг друга без переводчика. В ответ я услышала, что тем хуже для них, тем более они должны быть православными!
Мише Чарному Вероникой было сказано, что ему следует ходить в библиотеку института России Восточной Европы, там есть все нужные ему книги. После этого Миша больше не приходил в библиотеку Русского купеческого общества.
Абрам Терц у нас был в общей толпе со всеми евреями, и ничто не могло убедить Марию Францевну и Веронику в том, что это псевдоним вполне русского писателя Андрея Синявского. Однажды, в мусорном ведре я увидела разорванную книгу Кунина "Иванов и Рабинович или Ай го ту Хайфа" – по-видимому, эта акция также входила в кампанию борьбы с "еврейскими изданиями". Книгу М.Салиаса "Три любови Достоевского" я попросту спрятала от них, так же, как и Тель-Авивское издание книги Давида Маркиша "Шуты", в которой говорилось о еврее, ”птенце гнезда Петрова” Петре Шафирове. А вот из собрания воспоминаний об А.С. Пушкине "Любовный быт Пушкинской эпохи" мне удалось спасти только второй том. Первый пропал, по-видимому, его казнили. Эту книгу Вероника назвала "плейбоем 19 века".
Однажды, когда было уже совершенно очевидно, что карьера моя в библиотеке заканчивается, Татьяна Игоревна Карпинская сказала мне, что я веду беседу очень темпераментно и, случается, перебиваю собеседника. Я признала, что это сущая правда, это со мной случается, извинилась и обещала впредь следить за собой.
Через некоторое время все перешли к столу, который, кстати, накрыла я, и началась беседа. Помня замечание Карпинской, я старалась помалкивать, но иногда все-таки вступала в беседу. При этом, помня сказанное Татьяной Игоревной, я пережидала окончания речи предыдущего собеседника и выдерживала коротенькую паузу, чтобы не "перебивать". Тем не менее, при каждом моем вступлении в беседу, Вероника многозначительно переглядывалась с Карпинской и кивала ей головой и я слышала громкий шепот: ”перебивает”. Понаблюдав несколько раз за этой пантомимой, я заметила, что при таких условиях мне вовсе нельзя вступать в беседу.
Чашку за собой Вероника никогда не мыла. Я не стала бы никогда писать об этой мелочи, если бы не то объяснение, которое мы с Анной Францевной получили по этому поводу: Вероника настолько высоко образована, что не может заниматься такими делами, как мытье чашек, или уборка помещения.
Приблизительно в это же время произошло еще одно событие. В библиотеке два-три раза бывала очень талантливая и нестандартная женщина, виолончелистка, поэтесса и журналистка Элеонора Иоффе. Ее статьи часто печатались в русских зарубежных изданиях ”Русская мысль” и др. Впоследствии она перевела на русский язык финские рождественские песнопения и издала их отдельной книжкой. В данный момент Элеонора собиралась подарить библиотеке только что вышедшую книгу своих стихов. Но тут Мария Францевна принялась развивать одну из своих излюбленных тем о том, что сейчас "Россия уже не Россия, а Жидовия. Что это филиал Израиля, что внешней и внутренней политикой в России руководят евреи”. Элеонора сразу поднялась и ушла, сказав, что такие разговоры недопустимы.
Тогда-то я поняла, что надо уходить. Разговоры, каковые ведутся здесь, не могут иметь место в порядочном обществе, во всяком случае, в порядочном, в том понимании, каковым я пользовалась всю свою жизнь. И я, присутствуя и не возражая против, тем самым, являюсь соучастницей ксенофобских акций и несу за них ответственность. В данной ситуации бездействие равносильно соучастию. Если я остаюсь, значит, я соглашаюсь со всем сказанным, если же все это противно моим взглядам, надо отмежеваться. Мой муж, Урхо, был того же мнения. Для него все было просто, и он уже давно перестал посещать библиотеку. Но я так пригрелась здесь, библиотека оказалась такой удобной и приятной для меня отдушиной, что сразу решиться было очень трудно.
Однажды Вероника пришла в библиотеку вместе с уже не раз посещавшей нас и хорошо знакомой сотрудницей Пушкинского дома в С.-Петербурге Светланой Кореневой. Так как на сей раз Вероника как бы ”открыла” ее сама (они встретились то ли в библиотеке, то ли на выставке), она считала ее приватизированной и очень ревниво относилась ко всем нашим попыткам вести со Светланой беседу. Когда же Мария Францевна предложила нашей посетительнице расписаться в гостевой книге, Вероника пришла в ярость и начала замахиваться на Марию Францевну, не подпуская последнюю и нашу гостью, друг к другу. Все сделали вид, что ничего не произошло, но гостья была явно напугана и быстро ушла.
Мария Францевна также выглядела смущенной. Она сказала, что долгие годы жила в одном доме с душевно больным, но ничего подобного с ней никогда не случалось. Мы были потрясены. Однако, к вечеру Мария Францевна уже ”забыла” об этом происшествии и все стало, как прежде. В качестве пояснения к ее словам хочу сказать, что старший брат Вадима Даниловича Борис так же, как и Вадим Данилович, учился в Петербургском университете на юридическом факультете. Далее я хочу процитировать слова Марии Францевны, которые она повторяла мне неоднократно: ”он был очень умен, очень много читал, поэтому сошел с ума”. Но в стихах Вадима Даниловича неоднократно упоминается о том, что брат его жил в другом, своем, непохожем на наш, мире.
Конечно, Мария Францевна была очень умна, и она полностью понимала, что Вероника, мягко говоря, не готова к работе с посетителями. Поэтому она по несколько раз в неделю звонила мне и при каждой встрече убеждала, что мне не следует покидать библиотеку, что я должна продолжать мою работу, как ни в чем ни бывало, а Вероника пусть воображает, что руководит. На это я отвечала, что это невозможно, что у меня на это не хватит ни сил, ни нервов. Основной аргумент против моих слов было то, что она, Мария Францевна, также много претерпела из-за библиотеки и что на благо культуры можно на время спрятать свои амбиции. Зато потом все будет хорошо.
Мария Францевна все время твердила мне, упорно вбивала в голову, что Вероника научится у меня вести себя правильно и прилично, и мой долг показывать ей пример. В данной ситуации она хотела одним выстрелом убить двух зайцев. Она хотела, чтобы дело ее жизни осталось в руках ”старых” русских, только их она считала достойными людьми, но чтобы там царил тот дух доброжелательства, какой был при нас. Мысль, что ”новые” русские недостаточно хороши и потому не могут самостоятельно работать здесь, безраздельно владела ее сознанием. В ее представлении, несмотря ни на что, мы навсегда остались ”советчиками”, людьми второго сорта.
Наталия Ивановна ушла после того, как нас назвали "спекулянтками" и "челноками". А я еще продолжала бороться за себя, за свое доброе имя. Одна из моих знакомых, глядя на то, как я то уходила, то возвращалась в библиотеку, сказала, что все это похоже на развод с мужем. Но я отрывала от себя кусок своей души и свои иллюзии. Я была как тот хозяин, который, жалея собаку, отрезал ей хвост по частям. Однако и мне пришлось уйти.
Вспоминается еще один эпизод из этого периода. В одной из комнат в люстре перегорела лампочка. Я сказала, что напоследок, пред уходом из библиотеки навсегда, приведу люстру в порядок. У меня в запасе были лампочки, я быстро справилась с этим делом и отправилась домой. Но в следующий раз Мария Францевна позвонила мне и все-таки уговорила меня опять придти в библиотеку ”перевоспитывать Веронику примером”. Если бы вы видели удивленное и огорченное лицо Вероники! Это было лицо не злопыхателя, а ребенка, которому пообещали давно желанную игрушку и затем отняли ее. Она не могла совладать с собой и, чуть ли не со слезами, воскликнула: ”Вы же сказали, что больше не придете!”
Замечательно то, что Татьяна Игоревна Карпинская, с которой мы выпили вместе огромное количество кофею, обсудили несчетное количество книг и проблем и были почти друзьями, приложила много усилий для моего выдворения из библиотеки. Она просила меня уйти добровольно и оставить место для ”настоящей интеллигентки, представительницы той интеллигенции, которая основала библиотеку”. Любезнейшая Татьяна Игоревна! Вы знаете, что Вы слукавили и слукавили дважды. Русское купеческое общество основали купцы и не для утонченных интеллигентных бесед, а для того, чтобы выпить, поесть и повеселиться, это с одной стороны. С другой стороны, я не берусь оценивать ни степень образованности и интеллигентности Вероники, ни умения ее вести себя, тут я не могу быть беспристрастной.
Правда, я чувствую себя очень виноватой перед Татьяной Игоревной Карпинской. Однажды я поступила с ней нехорошо. Произошло это в кульминационный момент ”охоты за ворами” в наших кругах. Мы встретились с Татьяной Игоревной в библиотеке, и, как я уже писала об этом, она мне помогала с переводом книги Марьи Лейнонен по истории Русского купеческого общества. В помощь Татьяна Игоревна принесла небольшую книжечку статей журналиста Александра Вознесенского, который печатался в Гельсингфорсе в 20-30-е годы. На ней был штамп какой-то библиотеки.
В следующую субботу опять разговоры о пропавших книгах, о том, что надо следить друг за другом и за читателями, намеки и подозрения. И вдруг в этом тумане всеобщей подозрительности я совершенно неожиданно сказала, что на книге, принесенной накануне Татьяной Игоревной, я видела, как мне кажется, штамп нашей библиотеки, а в формуляре эта книга не показана. Услышав это, Наталия Ивановна спросила моего разрешения сказать об этом Татьяне Игоревне. Уже дома, стряхнув с себя весь хмель разговоров о врагах, я поняла, что была абсолютно не права. Но худое дело сделано и ничего уже нельзя было исправить. Потом я извинялась перед Татьяной Игоревной, просила прощения, мы обнялись и она сказала, что все забыто. Но у меня до сих пор так и стался неприятный осадок и чувство большой вины перед нею. Думаю, что у нее тоже; и она в данном случае права…
Через некоторое время Мария Францевна позвонила мне и попросила вернуть ключи от библиотеки. Объяснением послужило то, что теперь библиотека открыта только для старых русских интеллигентов или их потомков, родившихся в Финляндии - "старых” русских, а не для ”новых” русских, как они нас называют. Мне же хотелось в память о библиотеке оставить ключи у себя.
Я сдала ключи и простилась с библиотекой. Жалею ли я о чем, есть ли у меня злоба на кого-нибудь? Нет. Позади и слезы, и бессонные ночи... Я смотрю на это, как на одно из проявлений этой прекрасной и яростной жизни. К тому же здесь я пережила много счастливых и прекрасных минут. Здесь я познакомилась с множеством интересных людей, а с некоторыми из них и подружилась.
Очень подходят к этим обстоятельствам стихи Вадима Даниловича Гарднера, написанные в 1935 г
В душе безотрадные тучи.
Октябрь водворился внутри,
И ветры суровые веют;
А ты и бодрись, и твори!
Клевещут, нечистые комья
Бросают в тебя за добро,
За то, что метал перед ними
Души жемчуга, серебро
Не помнят добра и не ценят,
Не жди благодарности век.
За благо ведь злом отвечают
……………….. волк-человек.
На дружбу твою отвечают
Прямым неприкрашенным злом,
Глумятся над правдой и честью,
Как встарь, - над Распятым Добром.
А если нельзя, - то лукавят
Заглазно бесчестят тебя,
С такими ж змеями, как сами,
Хулу изрыгают, шипя…
Как пасмурно, тучливо небо
Над нами осенней порой, -
Так сумрак тоски воцарился
Над солнечной яркой душой;
И тратить усилий немало,
Чтоб мутную мглу разогнать,
Чтоб ясно, свободно, спокойно
Вселенныя вновь созерцать.
Эта часть моих воспоминаний была закончена 12.01.98 г., но позднее, учитывая события, произошедшие в дальнейшем, я решила их дополнить.
Теперь эта история, можно сказать, закончилась. Я и все мои знакомые, те, с которыми мы встречались в библиотеке, туда больше не ходят. У меня осталась одна библиотечная книга - воспоминания бывшего посла в Финляндии Юрия Дерябина на финском языке - ”Под своим именем”. Но я никак не могу заставить себя пойти в библиотеку и сдать ее. Что-то внутри мешает мне переступить много лет знакомый порог. В начале 1998 года на общем собрании членов секретарем Русского купеческого общества и заведующей библиотекой выбрали Веронику Шеншину. Теперь ей помогают две бывшие учительницы из русской школы, которые сейчас на пенсии. Как говорят, они полностью в подчинении заведующей, не перечат ей и она довольна.
Говорят, что в библиотеке очень мало посетителей и за прошлый год читателями прочитано около семидесяти книг. В конце года Вероника устроила празднование 80-летнего юбилея библиотеки. Приглашение на этот праздник я не получила, хотя и являюсь членом Русского купеческого общества. Другим членам вместе с приглашением на праздник рассылался и проект нового устава общества. В нем написано, что членом Общества может быть только ”гражданин” - вероятно, имеется в виду ”гражданин Финляндии”. В этом, скорее всего, объяснение причины, по которой я не получила очередного приглашения. На основании нового устава я и Наталия Ивановна (так как было только два члена Общества - не граждан Финляндии, надо полагать, что мера направлена только против нас) механически исключаемся из Общества. К 80-летию библиотеки была выпущена, составленная на финском и русском языках Вероникой Шеншиной и Татьяной Игоревной Карпинской, небольшая брошюра,о ней я упоминала выше. В ней кратко приводилась история библиотеки, перечислялись те, кто работал в ней. Разумеется, не были упомянуты не только такие скромные персоны, как Наталия Ивановна и я, но и Анна Францевна фон Флиттнер, которая два года была председателем Общества и до последнего времени, до того, как ей исполнилось 85 лет, десятки лет постоянно и безвозмездно работала в библиотеке.
Мария Францевна после этих событий также в библиотеку не ходила. Но на это были совсем другие причины: все лето она болела, все-таки 89 лет. Я посещала ее в больницах, в которые она время от времени попадала. Случалось, что Урхо сопровождал меня, но он никогда не заходил к Марии Францевне: что-то мешало ему, через что-то он не мог переступить и разговаривать с ней, как ни в чем не бывало. Навещала я ее и дома. Мне было жалко ее, я видела в ней очень пожилого и больного человека. Правда она еще была воительницей, при каждом посещении звучала фраза о низком культурном уровне ”новых”, то есть вновь прибывших русских. Однако евреям было разрешено жить - ”у меня жена племянника была еврейка, я против них ничего не имею”…
Последний раз я встретилась с Марией Францевной 18 ноября 1998 года. На следующий день ей исполнялось 90 лет. Я, вместе с Ириной Морозовой, пришла поздравить ее с этим удивительным событием. Замечательно, когда человек живет долго, когда он не в слишком большом склерозе и дай Бог ему еще много лет. Я опять варила кофе, мы, как и всегда, разговаривали о том, о сем, ”перебивая” друг друга, о России, о ее трудной судьбе. 3 декабря 1998 года мне позвонила Нюра, то бишь, Анна Францевна фон Флиттнер, и сказала: ”Ты только не волнуйся, Муся умерла” Так сказала она потому, что в тот день, когда мы пили у Марии Францевны кофе, умерла моя мама. После звонка Анны Францевны я проплакала весь вечер и о маме, и о Марии Францевне и обо всех…
Похоронили Марию Францевну по католическому обряду. На похоронах было много родственников и друзей, был профессор Хеллман. Я тоже положила цветы на ее могилу. Потом, по финскому обычаю, пили кофе, Вероника сказала речь, зачитывались соболезнования. Было очень грустно. Так закончилась эта история.
Недели через две в самой большой хельсинкской газете ”Хельсинки саномат” была посвященная Марии Францевне статья, где кратко описывалась ее трудная и интересная история. Подпись: Вероника Шеншина, доктор философии и исследователь.
Примечательно во всей этой истории то, что Урхо пришлось некоторые страницы Гарднеровского архива разбирать дважды. Когда с нами не стало Марии Францевны, я дала себе слово собрать в моем компьютере под одним файлом все стихи Вадима Даниловича, которые каким-либо образом, в черновиках или на дискетках среди других документов сохранились у меня. Кроме прочего, у меня осталось несколько листов неудачных ксерокопий из подлинных тетрадей Вадима Даниловича, которые я постеснялась отдать Марии Францевне и которые Урхо разобрал и переписал второй раз. Так что теперь весь архив хранится у Вероники Шеншиной, но у меня есть небольшая его часть.
Я не очень верю в мистику, но приведу один занятный эпизод. В период повторной моей работы над дневниками, это был 1999 год, лето выдалось жаркое и погожее. Я довольно-таки весело проводила время и изрядно отвлеклась от этой работы. Вдруг Мария Францевна приснилась мне три ночи подряд. В этих снах я все время была с Анной Францевной, мы с ней переходили с одного места на другое и везде нас вновь и вновь встречала Мария Францевна и что-то от меня требовала. В третью, последнюю ночь я увидела у нее в руках старинную бриллиантовую сережку. Она взяла меня за руку, положила сережку мне в ладонь и согнула мои пальцы, тем самым, закрыв ее. Я сразу проснулась и мне показалось, что я еще чувствую ее прикосновение и холод металла в руке. Позднее, те, кто знал ее ближе, рассказали мне, что это был очень характерный для покойной жест. Утром, рассказав этот сон мужу, я в шутку вслух сказала: ”Мария Францевна, не снитесь мне больше, я Вам ничего не должна!” И тут меня осенило - должна. Я ведь мысленно обещала привести все дела в порядок!
Перепечатывая второй раз архив Вадима Даниловича, я периодически звонила Анне Францевне и задавала ей вопросы относительно некоторых людей и событий, упоминаемых в стихах. Кое-что она помнила, кое-что забыла. Все, что она мне рассказала, я записала и поместила в качестве комментариев к соответствующим стихотворениям. Но везде указывала также на источник информации, на преклонный возраст и плохую память этого источника. Теперь все это хранится в моем компьютере.