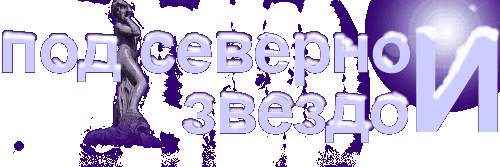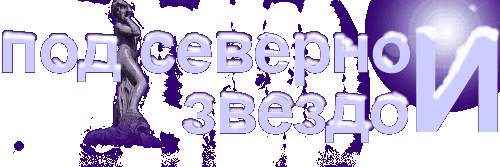Предидущая
После окончания рабочего дня у нас была привычка перезваниваться и делиться друг с другом впечатлениями. Причем, так как круг общения был очень узким, то тайн не было и всегда известно, кто про кого что сказал. Мне позвонили и рассказали, что, проводив меня в библиотеку, Мария Францевна пошла вслед за мной в магазин. Она видела, как я, радостная, бежала по направлению к библиотеке. Куда же я бежала? Ну, конечно же, к молодому любовнику! Разумеется, Миша Чарный не задаром пленился моими под увядшими прелестями: мы с ним вместе воровали книги! Читатель, примерь ситуацию на себя и ты узнаешь, что я почувствовала и пережила.
Однако, услышав все это первый раз, я засмеялась, так как сочла все это просто глупостью. Но и по прошествии двух лет я не избавилась от этого обвинения. И еще долго меня спрашивали совершенно "невинным" голосом: "Что это Миша Чарный не ходит в библиотеку, вы не знаете?"
Приблизительно в это же время у нас появился новый сотрудник. Это Наталья Ивановна Корхонен. Она, как и я, ленинградка, и, кроме того, специалист по библиотечному делу. Поэтому с ее приходом в своей работе я сделала больший крен в хозяйственную сферу, а ей оставила некоторые специальные вопросы. Однако подчас работы было так много, что некогда было разбирать, кто в какой области специалист.
Правда, отношения с Наталией Ивановной иногда были несколько натянутыми. Потом, когда мы все поняли и сопоставили события, выяснилось, что ей говорили плохое про меня, а мне про нее. Принцип разделяй и властвуй. При этом Мария Францевна очень дружелюбно смотрела на меня своими огромными голубыми глазами и буквально обезоруживала обаятельной улыбкой. Улыбка Марии Францевны сразит кого угодно, для меня же она, несмотря ни на что, всегда была неотразимой!
Как-то Наталии Ивановне было предложено проверить формуляр Миши Чарного. На месте ли все книги, которые я ему выдавала. В качестве условий игры было принято, что ворованные книги я записывала в формуляр, потом вычеркивала. А Миша их не возвращал. То, что книги могли быть возвращены и затем снова выданы следующим читателям и потому не оказались на полках, в расчет не принималось. (Учета выданных книг в те времена не велось). К счастью, все книги, которые читал Миша Чарный, оказались на месте. Но это ничуть не улучшило моего положения.
В этот период моей работы в библиотеке были дни, когда я совершенно очевидно раздражала Марию Францевну. Так, в спокойные моменты, когда посетителей было не так много, я ремонтировала книги. Для ремонта переплетов я или покупала старые сумки, или снимала кожу с выброшенной на помойку мебели.
В один из таких дней Мария Францевна сказала мне, что она никогда не слышала, чтобы переплеты книг ремонтировали кожей. Я ответила, что не у каждого ремонтера есть для ремонта настоящая кожа. "Впрочем, если Вы против моей работы, я могу ее прекратить" На это мне ничего не было сказано, но я видела, что мной очень, очень недовольны.
Мария Францевна руководила нашей работой, а мы с Наталией Ивановной делали все: систематизировали книги, давали советы посетителям, варили кофе, готовили бутерброды и мыли полы. Однажды мы с моим сыном на его машине везли подаренные библиотеке одной из ”старых” русских, переселявшейся в богадельню, книги и шкаф. Шкаф торчал из багажника машины и с грохотом перекатывался на поворотах. Я очень боялась, что нас остановит полицейский, и мы заработаем штраф, но все обошлось. Шкаф мы доставили благополучно, проехав в библиотеку не прямо через центр, а объехав город по периферии. Все подаренное разгрузили и перенесли внутрь.
Среди подаренных этой пожилой дамой вещей были литографии, одна икона, несколько ваз и настоящий пистолет. Пистолет, как она уверяла, был не заряжен, а у меня не было ни охоты, ни умения проверять. Я просто положила его в одну из ваз. Через некоторое время к нам пришел наш старый и очень хороший друг, ветеран войны, Райнер Маттсон. Мы показали ему этот пистолет. Каков же был наш ужас, когда мы узнали, что пистолет был заряжен и один патрон находился в стволе! У меня потом целый день дрожали руки. Я представила себе, что могло произойти, если бы пистолет попал детям, которых у нас обычно бывало достаточно!
Можно вспомнить много хороших моментов. Иногда мы все дружно и звонко смеялись по какому-либо поводу, а случалось и без повода. Как-то вдруг в той комнате, где мы обычно пили кофе, началось непонятное ритмичное попискивание и длилось это несколько недель. Время от времени к нам приходил симпатичнейший и интересный человек - советник русского посольства по политическим вопросам. Молодой и очень обаятельный, он все знал, все читал, все умел, все видал, и с ним было приятно общаться, хотя мы были уверены, что он кэгэбэшник. Так и оказалось, впоследствии его выслали за шпионаж и об этом даже писали в газетах и упоминала радиостанция ”Свобода”. Так вот, тогда, когда мы обо всем только догадывались, при нем (опять же, не случайно, здесь никто ничего не делал случайно) кто-то высказал мысль, не попискивет ли это подслушивающее устройство, установленное КГБ и пришедшее по какой-то причине в негодность? Он засмеялся и сказал, что тут у нас нечего подслушивать. И, действительно, разговоры велись очень свободные, но ничего заслуживающего особого внимания не было. Потом выяснилось, что попискивал испортившийся противопожарный прибор.
Однажды я и Анна Францевна, которую я звала Нюрой, дошли до крика. Я показывала ей свои домашние фотографии. Подчас у нее бывал своеобразный юмор, и она любила ”подначивать”. В данный момент она стала говорить зачем, дескать, мой муж бреет голову. Если бы он перестал это делать, у него выросли бы густые и кудрявые волосы, как у покойного Нюриного мужа Мити. Я отвечала, что, во-первых, муж мой не бреет головы, а, во-вторых, у него даже в молодости не было ”густых и кудрявых” волос, где уж теперь. Нюра же продолжала настаивать на своем, а я, потеряв всякое чувство юмора и меры, с большим темпераментом стала доказывать ей, что все не так. Под конец в моем голосе стали появляться визгливые нотки; Нюра же свою партию держала на низких тонах.
Тут появилась Татьяна Игоревна Карпинская и спросила, почему мы с Нюрой так азартно кричим друг на друга. Я рассказала, в чем дело. Татьяна Игоревна меня как на землю спустила: ”Нашли, по какому поводу ссориться и кричать!” Тут мы поняли всю нелепость ситуации и рассмеялись.
Как-то мы с Анной Францевной и Ириной Морозовой выпили ”на троих” бутылочку Лонг дринк, объемом в треть литра, который имел крепость 2,7%. Уж не знаю почему, может просто оттого, что нам вообще хорошо вместе, мы сильно развеселились и много смеялись. На другой день пошли разговоры, что я пришла на работу в библиотеку пьяная. Почему только я одна - не знаю.
Среди читателей было много интересных людей, о которых можно рассказывать часами. Я уже упоминала о Мише Чарном. Этот молодой человек, вовсе не специалист по филологии, успел прочитать такие книги, о которых я, и не слыхала; я не раз обращалась к нему за советом по разным, интересующим меня, вопросам. С ним всегда было приятно поговорить. Зачастую мне казалось, что он знает все…
Особого разговора заслуживают две пожилые дамы из ”старых” русских, которые в бытность мою в библиотеке были нашими постоянными посетительницами. Прежде всего, они совсем не походили на прочих ”старых” русских, держались с нами ”новыми” русскими, свободно и не унижали нас презрением и недомолвками. Вообще, когда мы познакомились поближе, то поняли, что они, особенно одна из ни - Эрна Фриск, по образу мыслей и отношению к событиям больше походили на ”новых” русских. Они казались нам обычными нормальными людьми с нормальными, естественными реакциями на окружающее.
Ведущей в этой паре была Эрна Фриск. Когда она приходила, я немного волновалась. С одной стороны, потому, что с ней было приятно и интересно общаться, а с другой стороны по той причине, что она считала, что у нас с ней одинаковый вкус и я, по ее словам, всегда даю ей хорошие книги. Это обязывало, и мне хотелось приготовить для нее что-нибудь интересное. Ее подруга Валерия Форстен обычно читала то, что уже прочла Эрна.
Внешность их была также примечательной. Эрна Фриск - высокая, стройная, всегда подтянутая и как говорится comme il faut. Подруга ее – полная противоположность - пухленькая, круглолицая, улыбчивая, сидит мешочком. Приходили они обычно не вместе, и поджидали одна другую у нас в библиотеке. От кофе всегда отказывались по той причине, что, набрав книжек, они отправлялись к одной из них на обед, причем, гвоздем программы всегда было какое-нибудь необычное блюдо - блины с икрой, пельмени или еще что-нибудь такое же вкусное. Мы все заранее радовались их приходу и любили поболтать с ними ”о том, о сем, а больше ни о чем”.
С большим удовольствием я вспоминаю о первой встрече с Кюости Халликайненом. Первый раз он пришел в библиотеку и принес старинный серебряный кубок с надписью по краю на церковно-славянском языке. Сначала он не обратил на меня никакого внимания. Вернее сказать, ему был труден мой финский с ужасающим русским акцентом. В следующий раз он попросил кого-нибудь в добровольные помощники. Дело в том, что он проводил исследования семейных корней своей жены, дед которой, врач Евгений Эйхгольц, родом был из Петербурга. Ему рекомендовали меня, дав мне хорошую аттестацию.
Так, на многие годы судьба связала меня и мою семью, с семьей Кюости. Он уже прекрасно, с полуслова понимал мои речи. Мы с ним много работали, прочли много книг на финском и на русском языке, ездили вместе в Петербург, иногда по-семейному встречали праздники. О поездке в Шлиссельбургскую крепость мы с ним вместе написали книгу, это была история Шлиссельбурга. Оказалось, что на финском языке нет справочника по этому вопросу. Я ”переводила” с русского на финский, прочитанное в книгах и справочниках о Шлиссельбургской крепости, а потом Кюости переводил уже окончательно с моего финского на литературный финский язык. Он отпечатал на свои деньги сто экземпляров этого опуса и даже продал часть книжек в Академическом книжном магазине Хельсинки. Правда, бизнеса на этом ему сделать не удалось. Мы собрали много материалов о семье Эйхгольцев. Ранее, еще до знакомства со мной, им была написана небольшая книга о докторе Эйхгольце. Теперь ее необходимо было дополнить, а некоторые места переписать заново. Используя наш предыдущий опыт работы, мы с Кюости написали вторую книгу о тюремном враче Евгении Эйхгольце и его семье. Это была очень интересная работа. Об этом можно говорить долго и интересно.
Так, например, Кюости много рассказывал о своем родственнике, герое Крымской войны Честахове, как он произносил его фамилию. В Университетской библиотеке Хельсинки я нашла массу материала о Крымской войне, дневники Главного штаба, списки награжденных, но нигде ни слова о Честахове. Я уже начинала впадать в отчаяние, а Кюости, с хладнокровным финским упорством, продолжал настаивать на своем. И вдруг, меня как будто осенило. Я совершенно случайно наткнулась на фамилию первого, получившего Георгиевский крест в этой кампании, офицера, лейтенанта Александра Шестакова и тут же обнаружила очень много интереснейшего материала о нем. Он, вместе с лейтенантом Дубасовым, провел первую в Крымской войне и вообще в истории российских войн акцию подрыва вражеского корабля торпедой. С торжеством принесла все это Кюости. Оказывается, все время речь и шла о нем, о Шестакове. Дело в том, что в финском языке нет звуков ”ш” и ”ч” и финны плохо их различают и для Кюости Шестаков и Честахов звучит одинаково. Таким образом, мы нашли новые и интереснейшие подробности для наших исследований, а я очень гордилась как своей ”догадливостью”, так и уловом.
Другой раз Кюости позвонил мне и спросил, что значит по-русски ”шленская гармошка”. К этому времени он начал изучать русский язык и мог читать некоторые буквы, но по-прежнему не различал шипящие. С этой ”шленской гармошкой” я голову сломала. Вспомнилось даже, что где-то в Польше есть Шленская область и про то, что мама рассказывала мне про шленскую шерсть – особого качества. И опять, совершенно случайно, не могу сказать, как, догадалась, что речь идет о членской книжке. Кюости нашел в своих бумагах членскую книжку какого-то общества, в котором состоял один из его родственников. Позднее, в библиотеке мне очень непрозрачно намекали, что не зря я так много времени провожу с Кюости.
Долгая дружба связала нас с Марит Розенгрён – бухгалтером, которая ведет дела на четырех языках – шведском, финском, русском и английском. А сколько кофею и чаю вместе выпито, сколько переговорено обо всем, о жизни в Росси и в Финляндии!
Раз уж я стала вспоминать приятные встречи, то надо непременно рассказать о Райнере Маттсоне, знакомством с которым я очень горжусь и дружба, с которым переросла в дружбу семьями. Это симпатичнейший и умнейший человек, с ним можно говорить обо всем, он все понимает, несмотря на то, что у нас разные корни и разные истории жизни. Он совершенно лишен каких бы то ни было национальных предрассудков. Отчасти это можно объяснить тем, что у него русская жена. Они оба родились в шведской деревушке на западе Финляндии. Райнер рассказывает, что когда они поженились с Дорой, то он увидел, что его жена все время о чем-то говорит со своей матерью по-русски. Ему очень хотелось знать, о чем же они говорят; так он выучил русский язык. В библиотеке он брал книги только о русской жизни и русской истории.
Он – инвалид войны, у него серьезное ранение в ногу. Мы много говорили с ним о сложностях финской и русской истории, и во всех разговорах на исторические темы он всегда особо подчеркивает, что во второй мировой войне Финляндия воевала не на стороне Германии, а за свою независимость, а потому не несет ответственности за зверства фашистов. Меня всегда интересовало, как же Финляндия вступила во вторую мировую войну? Разъяснение для меня пришло недавно, в мемуарах моего любимого героя - маршала Маннергейма. Оказывается, сразу, когда началась война Германии с Советским Союзом, 22 июня 1941 года, советские самолеты, без всякого предупреждения возобновили бомбардировку Финляндии. Так эта страна, почти без перерыва, была вовлечена во вторую войну.
Дора рассказывала, что в деревне, в которой они жили, никто не знал, что они русские, так как по-русски они говорили только дома, а при посторонних - только по-шведски. В 1939 году, когда началась финская война их деревню, так же, как и другие города, совершенно неожиданно начали бомбить, это было страшно. Они с матерью очень испугались, выбежали из дома, и, забыв обо всем, кричали по-русски: ”Боже мой! Боже мой!” Так вся деревня узнала, что они русские. У Райнера и Доры дочь и сын, внуки, интернациональная семья, и, когда все собираются вместе, слышна шведская, финская, английская и немецкая речь.
Однажды, посреди рабочего дня, в библиотеку пришли двое мужчин. Один - лет сорока, плотный, с круглым лицом и очень приятной улыбкой. Другой, юноша, почти мальчик, лет восемнадцати. Оба были чем-то похожи и чем-то очень располагали к себе. На визитной карточке – Пауль Саммер, торговый посредник типографии. Оказывается оба они, отец и сын являются один - внуком, другой - правнуком основателя и первого председателя Русского купеческого общества генерал-лейтенанта Константина Васильевича Самсонова. Самсонов - выходец из "Русской Колонии". Он родился в Хельсинки в 1860 году. В кругу финских государственных служащих в Главном управлении морских измерений Северного залива его, на русский манер, прозвали директором лоцманов и маяков. После нескольких повышений и наград в 1914 году он уже был начальником Управления лоцманов и генерал-лейтенантом и оставался в этой должности вплоть до 1917 года. После получения Финляндией независимости, он потерял место и активно включился в общественную работу. В "Русской Колонии" он был заместителем председателя.
Председатель Общества Константин Самсонов скончался от приступа болезни через месяц после его основания в возрасте 59 лет. Это был удар для всех местных русских. Самсонов активно сотрудничал не только в Купеческом обществе, но и в Церковном совете, газете "Русский листок", русском спортивном обществе "Старт" и Оy Sibir. "Русский листок" посвятил несколько номеров письмам-воспоминаниям и похоронам Константина Самсонова.
Отец Пауля Саммера, также принимавший участие в основании Общества, коллежский регистратор Александр Константинович Самсонов поменял фамилию на Саммер. Дети и внуки его уже не говорят по-русски. Насколько я была восхищена появлением этой пары, настолько все остальные не обратили никакого внимания на их появление. Я рассказала об истории Русского купеческого общества, показала портрет их прародителя, висящий в библиотеке на почетном месте, и подарила книгу Марьи Лейнонен. Они слушали мой рассказ с интересом, видно было, что многое из рассказанного для них ново. Визитная карточка с небольшой фотографией улыбающегося Пауля Саммера хранится в моем архиве. К сожалению, больше они не приходили. А жаль, они оба мне очень понравились.
Во время работы в библиотеке я замечала много необычного. Так, я никак не могла понять, почему Мария Францевна, скажем, так не любит маршала Маннергейма. Но однажды получила разъяснение, которое меня очень рассмешило. Оказывается, вина Маннергейма в том, что он, офицер русской армии, после революции не эмигрировал во Францию, не голодал вместе с семьей, не бедствовал, не работал в Париже шофером такси, а уехал в Финляндию и стал там маршалом. Как я потом шутила, пошел не в таксисты, а в маршалы.
Как-то, в один из самых темных декабрьских дней 1995 года, мы были в библиотеке вместе с Анной Францевной. Канун Рождества, посетителей нет, в библиотеке темно и холодно, а потому не так уютно, как всегда. Звонит Мария Францевна, которая была еще у себя дома, и говорит, что чувствует себя плохо, и нет никаких сил идти в библиотеку. Разговаривала с ней Анна Францевна. Она сказала, что мы тоже плохо себя чувствуем, замерзли, и Марии Францевне нет никакой нужды приходить, так как и дел-то никаких нет, и посетителей нет, так что мы справимся и без нее.
Через некоторое время Мария Францевна рассказала мне, а затем и всем остальным о том, что Анна Францевна позвонила ей и сказала: ”Мы тебе отказываем. Ты больше не нужна в библиотеке. Теперь хозяйками будем мы и справимся без тебя". При этом она оборачивалась ко мне и спрашивала: "А кто это "мы"? Там были только вы и Нюра. Значит, вы хотите меня выгнать и занять мое место!" В подтверждение правдивости своих слов она божилась и осеняла себя крестным знаменем.
Сначала я очень темпераментно отрицала это и говорила, что мне вполне подходит мое место. Кроме того, до сих пор я совершенно всерьез считаю, что при всем желании, никогда не смогу занять ее место, так же, как и она не сможет занять мое. Но легенда о наших экспансионистских намерениях держится и по сей день. Мне уже ее пересказывали из других источников. ”А вы знаете, что Марию Францевну хотели выгнать! Это после всего-то, что она сделала для библиотеки!”
В начале 1996 года в библиотеке появилась Вероника Шеншина. Она защитила докторскую диссертацию о творчестве А.А.Фета в Иллинойском университете, стала доктором философии и возвратилась в Хельсинки, где она постоянно живет. Мы все вместе попили кофе, дружески побеседовали о том, о сем, как со всеми посетителями библиотеки. Из ее рассказов мы узнали, что "евреи, уезжая из СССР в Америку, полностью выбрасывали содержимое рояля и заполняли его золотом. В результате, у них все из золота, даже ножи и вилки". После этого разговора, мы с Наталией Ивановной обменялись мнением о ней и решили, что она очень, ”очень интеллигентная”, но немного не от мира сего - пыльным мешком из-за угла пришибленная, как говорят о таких на Руси.ä
Хочу заметить, что в опубликованном в 1998 году буклете ”Русское купеческое общество в г. Гельсингфорсе Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys r.y.”, автором которого были Вероника Шеншина и Татьяна Игоревна Карпинская, сказано, что Вероника помогала в библиотеке еще в 1994 году. Это утверждение совершенно не соответствует действительности. В 1994 году Вероники в библиотеки не было, это я видела собственными глазами!
По-русски она говорила с акцентом и стоила фразы не совсем правильно. В своей речи она зачастую использовала обороты, которые являются переводом с финского. Так, например, рассказывая нам о том, что в Москве на лето отключают горячую воду, она употребляла глагол ”закрывают”. Как выяснилось впоследствии, писать по-русски она не умеет совсем. Вернее, пишет, но все это даже невозможно редактировать, все надо переписывать. Лекции о своем именитом родственнике, которого она упорно называет Шеншиным, она также читает по-фински. Правда, кроме финского, она владеет также шведским и английским, на котором написана ее диссертация.
Кстати, о владении русским языком. У Марии Францевны прекрасный русский язык и, можно сказать, петербургский говор. Ее сестра Анна Францевна также прекрасно владеет русским, но она в своей речи употребляет много финских слов. Например, она говорит: ”Ты не представляешь, какая это туска быть одной”. Застежку-молнию она называет ветокетью, а колготки – суккахоузут. Я говорю ей, что нет таких слов в русском языке, на что она мне отвечает, что это ”ваши” слова, она их не знает. Вообще нет слова хуже, чем ”ваши”. Все русские - ”ваши”, песни советских времен также ”ваши”, а значит – плохие. Они их не знают и не поют. Они признают все, и любые проявления искусства также, только до 1917 года. Все, что было дальше – ”ваше” и не заслуживает внимания.
Некоторое время мы не видели Вероники. Затем как-то среди дня она пришла в библиотеку. Сразу с порога она сказала, что ”книг заметно поубавилось по сравнению с ее прежним посещением, поубавилось. А вот здесь раньше стояли старинные книги, а теперь Пикуль и еврейские издания”. И пошли бесконечные разговоры о том, что мы, то есть Анна Францевна, Наталия Ивановна и я, украли старинные книги и взамен поставили еврейские издания и книги Пикуля. Меня удивило то, что ведь Мария Францевна знала нас много лет. Почему она не заступилась за нас? Почему она не сказала, что при каждой поездке в Россию мы с Натальей Ивановной привозили и дарили в библиотеку новые книги?
В другой раз Вероника пришла с фотоаппаратом и тетрадкой. Она нумеровала полки и заносила номера в тетрадку, потом полки фотографировала. Как она затем громко объявила, делается это для того, чтобы потом показать нам, как много книг пропало. На двери комнаты, где были раритеты, появился замок, нас туда больше не пускали.
При одном из моих очередных посещений Марии Францевны дома, она мне сказала, про меня "говорят", что я коллекционирую старинные книги и у меня дома шкафы до потолка с ворованными книгами. Я спросила, кто говорит, Вероника? По той поспешности, с какой Мария Францевна начала отрицать это, я поняла, что попала в цель.
Уже к этому времени, распропагандированная идеями Марии Францевны публика начала постепенно разбегаться. Было не так много желающих слушать о том, что ”Финляндия у долгу у России” и что ”евреи захватили в России всю власть”. Потому меня попросили пригласить в нашу библиотеку новых читателей. Я привела свою подругу, очень милого и интеллигентного человека Катарину М. Первый раз она пришла, когда в библиотеке работали только мы с Марией Францевной и Катарина буквально очаровала ее, что нисколько не удивило меня. Мария Францевна сразу предложила ей вступить в члены Общества, и даже бланк заполнила. К слову сказать, меня приняли в члены Общества только после двух лет работы в библиотеке, в это время и ”любовь” ко мне уже прошла.
В следующий раз Катарина попала на Веронику. Последняя не так проста и ее на кривой кобыле не объедешь, как обычно говаривала моя бабушка. Как только она узнала, что Катарина симпатизирует Ерофееву, она без обиняков сказала, что теперь ей все ясно, и она хорошо представляет, что за человек Катарина, имея в виду, что она читает недостойные книги и потому, сама является человеком недостойным. Катарина всерьез огорчилась и стала разъяснять, что подчас и многолетнее близкое общение не позволяет хорошо узнать друг друга. Разве можно при первой встрече оценить кого-нибудь. На что Вероника ответила, что она может и ей уже все ясно. Уже никто и не вспоминал о приеме Катарины в члены Общества. Заполненный бланк некоторое время валялся на столе между книг, а потом пропал
Конечно, я написала не все. Когда начинаешь перекладывать все библиотечные истории на бумагу, получается такое, чему просто трудно поверить. Справедливости ради, следует сказать, что ”старые” русские по-своему правы. Мы там, в бывшем Советском Союзе действительно мало развиты и слишком наивны, или, как здесь говорят, ”некультурны”. В скобках сказать, никогда не слышала столько разговоров о ”культурности” и ”интеллигентности”, как в библиотеке. В нашей советской, или как здесь говорят, совдеповской жизни мы улыбались приятному человеку и старались держаться подальше от несимпатичных нам людей. Здесь вам всегда улыбаются, а, когда вы повернетесь спиной, то имеете возможность услышать о себе много неприятного, подчас и несправедливого.
Я иногда удивляюсь, как могло случиться, что мы, рожденные и воспитанные в тоталитарном режиме, более открыты друг другу и доброжелательны, чем люди из ”свободного мира”? Думается, это происходило потому, что наше поколение, поколение шестидесятников жило и формировалось в условиях ”мягкого” террора и брежневского застоя. Все волны коммунистического энтузиазма перекатывались через наши головы, не захватывая нас, а мы, среднестатистические советские люди, жили своей жизнью, в своем мире, со своей, может быть немного книжной, моралью. Пока наши вожди кричали ”Вперед, к победе коммунизма во всем мире!” и троекратно взасос целовались с ”братьями” по партии, мы учились, пели песни, любили, воспитывали детей, радовались своим маленьким радостям и не очень-то обращали внимания на крикунов. Мы, как могли, помогали друг другу выжить, выслушивали в бытовке за чашкой чая нехитрые истории своих сослуживцев, давали советы, тем самым, оказывая им психологическую поддержку
Из случившихся здесь историй не рассказала я, например то, что, буквально в первые дни моего пребывания в библиотеке, мне сделали замечание насчет моей манеры одеваться. Я всегда привыкла выглядеть опрятно, как принято у нас, ”новых” русских – прическа, косметика, чистая блузка. И вдруг мне говорят, что я не должна выглядеть так же прилично, как и хозяйки, поскольку я безработная, я должна смотреться поплоше и понесчастнее. Тут моему возмущению не было предела: безработная то безработная, но деньги на стиральный порошок, постирать блузку, я всегда найду!
В данный момент меня оставили в покое, но всегда напоминали, что я одеваюсь не так, как требуется. Юбка у меня всегда то слишком длинна, то слишком коротка. И хожу я ”как все ваши”, и одеваюсь, ”как все советчики”. Если кто-то из нас, советчиков, купил себе хорошую вещь, то надо тотчас сказать, что купили ее по случаю и очень дешево. Если тебя встретят в универмаге, в ”Стокмане”, тебе сразу покажут, что не ожидали тебя здесь встретить, денег-то у тебя не должно быть на покупки в хорошем магазине!
Не написала я, как унизительно покрикивала на меня Мария Францевна в присутствии Н.Г Макарова – уже упоминавшегося выше советника посольства России по политическим вопросам. Дело в том, что в книге об истории Русского купеческого общества написано, что в 1923 году в клубе гостил Игорь Северянин. В память об этом событии в библиотеке хранилась томик стихов Северянина с его автографом
Помню, что эту книгу как-то показал Марии Францевне профессор Бен Хеллман. (Он был секретарем Общества и находился в большом фаворе в период до моего прихода в библиотеку. Сейчас, естественно, он переместился в разряд "воров" и "врагов".) После этого некоторое время Мария Францевна с гордостью рассказывала посетителям о раритете с автографом автора, а затем вдруг эту книгу "украли". Причем разговоры о пропаже были очень навязчивыми и неприятными. Однажды, в один из дней, когда наши отношения были в одной из самых низших точек, в присутствии вышеупомянутого советника посольства Н.Г Макарова Мария Францевна в довольно резкой форме стала выговаривать мне за пропажу этой книги. Я сказала, что книги никому не выдавала и сама ее не брала. "Так что же Вы тут делаете, если не видите, как у Вас из-под носа книги воруют!" - сказала она мне довольно резко. Это было последней каплей, мне было очень стыдно перед Макаровым, что мной помыкают, как девчонкой. Я сняла пиджак, влезла, чуть ли не полностью, в указанный шкаф и нашла-таки пропажу.
Казалось бы, инцидент исчерпан, но приблизительно через неделю об исчезновении книги заговорили снова. На сей раз на месте ее, действительно, не оказалось. С тех пор я больше не видала книгу стихов Игоря Северянина с автографом автора. В пропаже винили и профессора Хеллмана, и профессора Девиса из Англии, который бывал в библиотеке несколько раз, и Руди де Гасереса, а в мое отсутствие и меня.
Вернусь еще к антисемитским настроениям, царившим в библиотеке. Постоянным нашим посетителем был Борис Борисович Берин-Бей. Когда он появился у нас, ему было лет 87. Но выглядел он прекрасно. Во всем облике его было много замечательного, привлекательного и трогательного. Он был серебристо сед, имел бакенбарды и длинные, свисающие на грудь, усы. При знакомстве с дамой вставал, слегка склонялся и щелкал каблуками (правда, иногда его в это время приходилось поддерживать, чтобы он не упал в порыве светской галантности), а при прощании церемонно целовал ручку. Замечательна и судьба его.
Из его рассказа получалось, что муж его матери, человек, воспитавший его, не был, как сейчас говорят, его биологическим отцом. Отцом был друг его матери. Борис Борисович узнал об этом только после смерти своего настоящего отца и в память о нем принял его фамилию. По правде сказать, история эта такая запутанная, что, хотя я слышала ее много раз, пересказать ее в точности затрудняюсь.
Из России в Финляндию он эмигрировал молодым человеком, после революции 1917 г. Во время финской и второй мировой войн сражался в действующей армии и открыто высказывал антикоммунистические взгляды. Потому, в 1944 году, после подписания мирного договора с Финляндией, когда министром внутренних дел финского правительства стал коммунист Лейно, Борис Борисович (так же, как и еще около сорока других офицеров финской армии русского происхождения) был депортирован в Советский Союз и попал в ГУЛАГ. В лагерях он пробыл 11 лет, но не озлобился, про это время, про следствие, про своего следователя рассказывает очень доброжелательно и с хорошей долей юмора. Обо всем этом он написал воспоминания. У меня есть один экземпляр этого опуса с трогательной дарственной надписью.